Марина Цветаева: Если история несправедлива, поэт обязян пойти против нее
Этот «разговор» постоянного автора «Родины» Вячеслава Недошивина с поэтом (а вернее — беседа,
Марина Цветаева. 1914 год. / ТАСС
Беседа о войне, мире и любви с выдающейся женщиной, родившейся 130 лет наза дЭтот «разговор» постоянного автора «Родины» Вячеслава Недошивина с поэтом (а вернее — беседа, составленная с точностью до буквы из фраз, мыслей и мнений поэта) был напечатан 20 лет назад в «Российской газете».
К 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой редакция сочла уместным вспомнить это в высшей степени удивительное интервью.
Заповеди— Марина Ивановна, когда-то Вы написали: «Дорогие правнуки, читатели через 100 лет! Говорю с Вами, как с живыми…» Выходит, верили в свою будущую славу?
— Я не знаю женщины, талантливее себя. Смело могу сказать, что могла бы писать, как Пушкин. Мое отношение к славе? В детстве — особенно в 11 лет — я была вся честолюбие. «Второй Пушкин» или «первый поэт-женщина» — вот чего я заслуживаю и, может быть, дождусь при жизни. Меньшего не надо.
— Гений сжигает человека дотла. Это известно. Но гений — женщина? Ведь есть же семья, дети, быт? Как это совместить? И совместимо ли это?
— Пока не научитесь все устранять, шагать напролом… пока не научитесь абсолютному эгоизму в отстаивании права на писание — большой работы не дадите.
— «Прочитав» Вашу жизнь, я заметил: Вы плакали наедине, на людях же — вечно смеялись над своими бедами. Даже на могиле хотели написать: «Уже не смеется…» А над чем, по-вашему, смеяться нельзя?
— Слушай и помни: всякий, кто смеется над бедой другого, дурак или негодяй… Когда человек попадает впросак — это не смешно; когда человеку подставляют ножку, когда человек теряет штаны — это не смешно; когда человека бьют по лицу — это подло.
— Да-да, это Вы говорили дочери, когда она впервые увидела клоунов в цирке. А что вообще можно назвать Вашими — «цветаевскими» заповедями?
— Никогда не лейте зря воды, потому что в эту секунду из-за отсутствия этой капли погибает в пустыне человек. Не бросайте хлеба, ибо есть трущобы, где умирают. Никогда не говорите, что так все делают: все всегда плохо делают. Не торжествуйте победы над врагом. Достаточно — сознания. Моя заповедь: преследуемый всегда прав, как и убиваемый. Делать другому боль, нет, тысячу раз, лучше терпеть самой. Я не победитель. Я сама у себя под судом, мой суд строже вашего, я себя не люблю, не щажу.
— Отсюда Ваш аскетизм? Простые прочные платья, крепкие башмаки, а не ажурные чулки и модные туфельки? Или — из-за вечной бедности, из-за денег?
— В мире физическом я очень нетребовательна, в мире духовном — нетерпима! Я бы никогда, знаете, не стала красить губ. Некрасиво? Нет, очаровательно. Просто каждый встречный дурак на улице может подумать, я это — для него… Мне совсем не стыдно быть плохо одетой и бесконечно-стыдно — в новом! Не могу — со спокойной совестью — ни рано ложиться, ни поздно лежать, ни досыта есть… А деньги? Да плевать. Я их чувствую только, когда их нет.
— Ныне Вас бы не поняли. Но, может, в этом и есть сила избранности?
— Сила человека часто заключается в том, чего он не может сделать, а не в том, что может. Мое «не могу» — главная мощь. Значит, есть что-то во мне, что вопреки всем моим хотениям все-таки не хочет. Говорю об исконном «не могу», о смертном, о том, ради которого даешь себя на части рвать…
— Даже если рядом все легко поступают иначе? То есть — «могут»?..
— Не могу, даже если мир вокруг делает так. Утверждаю: «не могу», а не «не хочу» создает героев!
Начало— А помните первый стих, написанный в 5 лет? «Ты лети мой конь ретивый Чрез моря и чрез луга И, потряхивая гривой, Отнеси меня туда…» Вы еще говорили, как смеялись все, когда Ваша мать, не без иронии, спросила: куда «туда», ну, куда?..
— Смеялись: мать (торжествующе: не вый-дет из меня поэта), отец (добродушно) и даже младшая сестра. А я, красная, как пион, оглушенная в висках кровью, сквозь закипающие слезы — сначала молчу, а потом — ору: «Туда, туда — далёко!..»
— Не знали, не знали еще слова «вечность»… А, кстати, о чем с юности больше всего мечталось?
— Моя мечта: монастырский сад, библиотека, старое вино из погреба и какой-нибудь семидесятилетний «из прежних», который приходил бы по вечерам слушать, что я написала, и сказать, как меня любит. Я хотела, чтобы меня любил старик, многих любивший… Этого старика я жду с 14 лет.
— И с 14-ти, после смерти матери, забросили музыку. Почему?
— Скульптор зависит от глины. Художник от красок. Музыкант от струн, — нет струн, кончено с музыкой. У ваятеля, художника, музыканта может остановиться рука. У поэта — только сердце.
— Судя по 7 томам сочинений, сердце у Вас оказалось необъятным?!
— Стихи сами ищут меня, и в таком изобилии, что прямо не знаю — что писать, что бросать. Можно к столу не присесть — и вдруг — все четверостишие готово, во время выжимки последней в стирке рубашки… А иногда пишу так: с правой стороны страницы одни стихи, с левой — другие, рука перелетает с одного места на другое, летает по странице: не забыть! уловить! удержать!..
— С детства любили «превозможение», так, кажется, назвали это?
— Да. Опасные переходы, скалы, горы, 30-ти верстные прогулки. Чтобы все устали, а я нет! Чтобы все боялись, а я перепрыгнула! И чтобы все жаловались, а я бежала! Приключение! Авантюру! Чем труднее — тем лучше!
— А что вообще любили в жизни? И любили ли ее — жизнь?
— Как таковой жизни я не люблю, для меня она начинает значить, обретать смысл и вес — только преображенная, т.е. — в искусстве… Любимые вещи: музыка, природа, стихи, одиночество. Любила простые и пустые места, которые никому не нравятся. Люблю физику, ее загадочные законы притяжения и отталкивания, похожие на любовь и ненависть. Люблю все большое, ничего маленького. И кошек, а не котят… Зверь тем лучше человека, что никогда не вульгарен. И, чем больше узнаю людей — тем больше люблю деревья! Я ведь тоже дерево… льну к вечному. А потом меня срубят и сожгут, и я буду огонь…
Встреча— Еще девочкой Вы поняли: «Когда жарко в груди, в самой грудной ямке и никому не говоришь, это — любовь»? Вот и скажите: у великих и любовь — великая?
— Думаете, великие должны быть «счастливы в любви»? Ровно наоборот. Их меньше всех любят. Мне нужно понимание. Для меня это — любовь.
— А что значит для женщины — любить?
— Всё! Женщина играет во всё, кроме любви. Мужчина — наоборот. В любви главная роль принадлежит женщине, она вас выбирает, вы — ведомые!
— Ну, Марина Ивановна, оставьте хотя бы иллюзию…
— Ну, если вам доставляет удовольствие жить ложью и верить уловкам тех женщин, которые, потакая вам, притворствуют, — живите самообманом!
— А что для вас, для женщин, главное в мужчинах?
— Слышали ли вы когда-нибудь, как мужчины — даже лучшие — произносят два слова: «Она некрасива». Не разочарование: обманутость — обокраденность. Точно так же женщины произносят: «Он не герой…»
— Не герой, значит заранее — виноват?
— Прав в любви тот, кто более виноват. Одинаково трудно любить героя и не-героя. Героизм — это противоестественность. Любить соперницу, спать с прокаженным. Христос — проповедник героизма!..
— Но Сергею, мужу Вашему, когда Вы встретились, было семнадцать, и он был — просто красив. Вы даже замерли?..
— Я обмерла! Ну можно ли быть таким прекрасным? Взглянешь — стыдно ходить по земле! Это была моя точная мысль, я помню. Если бы вы знали, какой это пламенный, глубокий юноша! Одарен, умен, благороден…
— Но, простите, через годы, Вы признались: «Личная жизнь не удалась»?
— Это надо понять. Думаю — 30-летний опыт достаточен. Причин несколько. Главная в том, что я — я. Вторая: слишком ранний брак с слишком молодым. Он меня по-своему любит, но — не выносит, как я — его. В каких-то основных линиях: духовности, бескорыстности мы сходимся, но ни в воспитании, ни в жизненном темпе — всё врозь! Главное же различие — его общительность и общественность и моя (волчья) уединенность. Он без газеты не может, я — в доме, где главное газета — жить не могу.
— Но Вы же не бросили его даже после его ареста в СССР. Или это Ваше — никого не бросать первой?
— Люблю до последней возможности. Все женщины делятся на идущих на содержание и берущих на содержание. Я принадлежу к последним. Не получить жемчуга, поужинать на счет мужчины и в итоге — топтать ногами — а купить часы с цепочкой, накормить и в итоге — быть топтаной ногами. Я не любовная героиня. Я по чести — герой труда: тетрадочного, семейного, материнского, пешего. Мои ноги герои, и руки герои, и сердце и голова…
Революция— Революция отняла у Вас всё: дом, дочь, умершую от голода, состояние, оставленное матерью. Но помните Ваши слова в 1907-м, когда Вы сами звали пожар восстания, в том числе и на свой дом? Помните: «Неужели эти стекла…»?
— …Неужели эти стекла не зазвенят под камнями? С каким восторгом следила бы, как горит наш милый старый дом! Только бы началось…
— Вы звали к восстанию. Но вот революция случилась, и что же? Не такую ждали, не тех звали?
— Главное с первой секунды Революции понять: всё пропало! Тогда — всё легко. У меня были чудесные друзья среди коммунистов. Ненавижу — поняла — вот кого: толстую руку с обручальным кольцом и кошелку в ней, шелковую — клёш (нарочно!) юбку на жирном животе, манеру что-то высасывать в зубах, презрение к моим серебряным браслетам (золотых-то видно нет!). Мещанство! Во мне уязвлена, окровавлена самая сильная моя страсть: справедливость. Сколь восхитительна проповедь равенства из княжеских уст — столь омерзительна из дворницких.
— Ответ на все времена! Помните, еще мама говорила Вам: «Когда дворник придет у тебя играть ногами на рояле, тогда это — социализм!» Да, верно, есть два миропонимания, два слоя людей…
— Две расы. Божественная и скотская. Первые всегда слышат музыку, вторые — никогда. Первые друзья, вторые — враги. У меня ничего нет, кроме ненависти всех хозяев жизни: за то, что я не как они.
— Как Вы выжили в те годы! Голод, холод, иней в углах квартиры. Вор, забравшийся к Вам, не только не взял ничего — сам предложил денег. И главное — душевное одиночество. Иосиф Бродский (он родится через год после Вашей смерти), назвал Вас первым поэтом ХХ века. И он же про Вас сказал: «Чем лучше поэт, тем страшнее его одиночество». Это — так?
— Одинок всю жизнь! У всех вас есть: служба, огород, выставки, союз писателей, вы живете и вне вашей души, а для меня это — боль от всего! Нет друзей, но это в быту, душевно — просто ничего. Я действительно — вне сословия, вне ранга. За царем — цари, за нищим — нищие, за мной — пустота…
Любовь— Вас спасала любовь. Даже в годы разлуки с мужем Вы писали стихи о ней. И какие! Но ведь посвящены они были отнюдь не мужу?
— Слушайте внимательно: мне мало писать стихи! Мне надо что-нибудь — кого-нибудь — любить — в каждый час дня и ночи. Одна звезда для меня не затмевает другой! Зачем тогда Богу было бы создавать их полное небо! Человечески любить мы можем иногда десятерых, любовно — много — двух. Нечеловечески — всегда одного…
— Но Вы «дорисовывали» любимых, украшали в воображении. Забавно, но ведь даже очки не носили, чтобы не менять сложившегося представления о человеке?
— Что я любила в людях? Их наружность. Остальное — подгоняла. Житейские подробности, вся жизненная дробь, мне в любви непереносна, мне стыдно за нее, точно я позвала человека в неубранную комнату. Когда я без человека, он во мне целей — и цельней. Я всех и каждого сужу по себе, каждому влагаю в уста — свои речи, в грудь — свои чувства. Поэтому — все у меня в первую минуту: добры, великодушны, щедры, бессонны и безумны.
— «Через любовь — в душу человека»?.. Тоже ведь — Ваши слова!
— Подходила ли хоть одна женщина к мужчине без привкуса о любви? Часто, сидя первый раз с человеком, безумная мысль: «А что если поцелую?» Эротическое помешательство? Нет. Стена, о которую билась! Запомните, чтобы люди друг друга понимали, надо, чтобы они шли или лежали рядом…
— Но ведь разочарования для Вас всегда были горестней очарований…
— По полной чести самые лучшие, самые тонкие, самые нежные так теряют в близкой любви, так упрощаются, грубеют, уподобляются один другому, что — руки опускаются, не узнаешь: вы ли? В любви в пять секунд узнаешь человека, он — слишком явен! Здесь я предпочитаю ложь. Я не хочу, чтобы душа, которой я любовалась, которую я чтила, вдруг исчезла в птичьем щебете, в кошачьей зевоте тигра… В воинах мне мешает война, в моряках — море, в священниках — Бог, в любовниках — любовь. Любя другого, презираю себя, будучи любимой другим — презираю его. У каждого на дне души живет странное чувство презрения к тому, кто слишком любит нас. (Некое «если ты так любишь меня, сам ты не Бог весть что!»). Может, потому, что каждый знает себе цену…
— Но Вы написали в стихах: «Я тебя отвоюю…» Выходит, Тютчев прав: любовь — поединок? А если так, то что тогда — победа?
— Первая победа женщины над мужчиной — рассказ о его любви к другой. А окончательная победа — рассказ этой другой о любви к нему. Тайное стало явным, ваша любовь — моя. И пока этого нет, нельзя спать спокойно…
— Смешно… А что тогда — измена?
— Измены нет. Женщины любят ведь не мужчин, а Любовь. Потому никогда не изменяют. Измены нет, пока ее не назовут «изменой». «Муж» и «любовник» — вздор. Тайная жизнь — и явная. Тайная — что может быть слаще?..
— У Вас было много любви. Но я действительно расхохотался, когда всех любовников своих Вы назвали потом «стручками», а одного — вообще «кочерыжкой». А если серьезно: Ваши разочарования это — завышенные требования или, как написал один — просто страх перед Вами. Скажите, Вас боялись?
— Боялись. Слишком 1-й сорт. Не возьмешь за подбородок! Боялись острого языка, «мужского ума», моей правды, силы и, кажется, больше всего — бесстрашия. У меня было имя, была внешность и, наконец, был дар — и всё это вместе взятое — не принесло мне и тысячной доли той любви, которая достигается одной наивной женской улыбкой. Я остаюсь одна. Это всегда одна и та же история. Меня оставляют. Без слова, без «до свиданья». И вот я, смертельно раненая — не способна понять — за что, почему? Что же я все-таки тебе сделала??? — «Ты не такая, как другие». — «Но ведь именно за это и…» — «Да, но когда это так долго». Хорошенькое «долго» — вариант от трех дней до трех месяцев…
— А как случилось, что в эмиграции Вы встретили самую большую любовь?
— Как случилось? О, как это случается?! Я рванулась, другой ответил. «Связь»? Не знаю. От руки до губ, где ж предел?.. Я скажу вам тайну. Я — стихийное существо: саламандра или ундина, душа таким дается через любовь. Как поэту — мне не нужен никто. Как существу стихийному, нужна воля другого ко мне — лучшей…
— Вы посвятили этой любви две поэмы. О ней знали все. Вы даже ушли из дома. Но ведь семья, взрослая дочь, ползучие сплетни русской колонии?..
— Есть чувства настолько серьезные, что не боятся кривотолков. Семья. Да, скучно, да, сердце не бьется. Но мне был дан ужасный дар — совести: неможения чужого страдания. Может быть (дура я была!) они без меня были бы счастливы! Но кто бы меня — тогда убедил?! Я была уверена (они уверили!), что без меня умрут. А теперь я для них — ноша, Божье наказание. Все они хотят действовать, «строить жизнь». Им нужно другое, чем то, что я могу дать.
— Может, Париж виноват? Чуждое всем вам, всей семье, окружение?
— Париж ни при чем — то же было и в Москве. Не могу быть счастливой на чужих костях. Я дожила до сорока, и у меня не было человека, который бы меня любил больше всего на свете. Почему? У всех есть. Я не нужна. Мой огонь никому не нужен, на нем каши не сваришь.
Эмиграция— Семнадцать лет чужбины! Невероятно! Скучали ли по родине в Праге, в Париже?
— Родина не есть условность территории, а непреложность памяти и крови. Не быть в России, забыть её — может бояться лишь тот, кто Россию мыслит вне себя. В ком она внутри, — тот потеряет ее вместе с жизнью.
— «Мы плохо живем, — писали Вы из Парижа, — и конских котлет уже нет. Мясо и яйца не едим никогда. От истощения у меня вылезла половина брови». И, несмотря на это, Вы каждое утро обливались водой, варили кофе и, порой полдня, искали одно нужное слово. Писали стихи. Вернувшись в Россию, ни единого не напишете…
— Когда меня спрашивают: «Почему вы не пишете стихов?» — я задыхаюсь от негодования. Какие стихи? Я всю жизнь писала от избытка чувств. Сейчас у меня избыток каких чувств? Обиды. Горечи. Одиночества. Страха. В какую тетрадь — писать такие? А главное, всё это случилось со мной — веселой, живой, любящей, доверчивой (даже сейчас). За что? Разве я — живу? Что я видела от жизни, кроме помоев и помоек. Я всегда разбивалась вдребезги, и все мои стихи — те самые серебряные сердечные дребезги…
— «Здесь я невозможна, в СССР не нужна», — сказали в эмиграции. Из-за стихов «невозможна» или — из-за характера? Из гордости дара, таланта или, извините, — из-за гордыни?
— Гордыня? Согласна. В нищете и заплеванности чувство священное. Если что-нибудь меня держало на поверхности этой лужи — то только она. Менять города, комнаты, укладываться, устраиваться, кипятить чай на спиртовке, разливать этот чай гостям. С меня достаточно — одного дерева в окне. Париж? Я его изжила. Сколько горя, обид я в нем перенесла. Ненавижу пошлость капиталистической жизни. Но не в Россию же ехать? Мне хочется за предел всего этого. На какой-нибудь остров Пасхи…
— Да, помню, Вы даже мечтали оказаться в тюрьме…
— Согласна на два года одиночного заключения (детей разберут «добрые люди» — сволочи — Сережа прокормится). Была бы спокойна. С двором, где смогу ходить, с папиросами. В течение двух лет обязуюсь написать прекрасную вещь. А стихов! (И каких)!
— Скажите, занося ногу на сходни, чтобы плыть в СССР, Вы ведь знали: дочь — уже «коммунистка», муж, «астральный юнкер», — уже давно чекист, «наводчик-вербовщик» Лубянки? Вы всё это знали! И Вы… поехали?
— Но выбора не было: нельзя бросать человека в беде, я с этим родилась.
— Поразительно! И ведь Вы, в век соблазнительных идей, ослепивших мир, ни разу не солгали словом. Единственная! Это всё — Ваше «не могу», то, которое и создает героев?
— За мое перо дорого бы дали, если бы оно согласилось обслуживать какую-нибудь одну идею, а не правду: всю правду. Нет, голубчик, ни с теми, ни с этими, ни с третьими, ни с сотыми, а зато… А зато — всё. А зато в мире сейчас — может быть — три поэта и один из них — я.
Судьба— Накануне Вашего возвращения Сталин наградил орденами 172 писателя. Даже молодых совсем — Симонова и Алигер. Всех, кроме Ахматовой, Пастернака, Платонова и даже Булгакова, которого, пишут, чтил…
— Абсурд! Награда за стихи из рук чиновников! А судьи — кто? Поэт-орденоносец! Какой абсурд! У поэта есть только имя и судьба. Судьба и имя…
— Но Вас не приняли не только чиновники — не приняли писатели. Общения с Вами испугались даже братья-поэты. Ни родных — муж, дочь и сестра в тюрьме, ни угла своего — ничего…
— Да, когда была там, у меня хоть в мечтах была родина. Разумнее не давать таким разрешения на въезд. Москва меня не вмещает. Это мой город, но я его — ненавижу. В бывшем Румянцевском музее три наших библиотеки: деда, матери и отца. Мы — Москву — задарили. А она меня вышвыривает: извергает. И кто она такая, чтобы передо мной гордиться? Я дала Москве то, что я в ней родилась… Я имею право на нее в порядке русского поэта… Меня жалеют чужие. Это — хуже всего, я от малейшего доброго слова — интонации — заливаюсь слезами, как скала водой водопада… Меня — все меньше и меньше. Остается только мое основное — «нет».
— Поэт, сказали Вы, должен быть на стороне жертв, а не палачей. Но Вы добавили: «И если история несправедлива, поэт обязан пойти против нее». Против истории? Но возможно ли это?
— Эпоха не против меня, я против нее. Я ненавижу свой век из отвращения к политике, которую за редчайшими исключениями считаю грязью. Ненавижу век организованных масс. И в ваш воздух, машинный, авиационный, я тоже не хочу… Но если есть Страшный суд слова — на нем я чиста…
— Вы безумно смелый человек. Таких и в истории России — единицы!
— Считают мужественной. Хотя я не знаю человека робче. Боюсь всего. Глаз, черноты, шага, а больше всего — себя. Никто не видит, не знает, что я год уже ищу глазами — крюк. Год примеряю смерть. Я не хочу умереть. Я хочу не быть. Надо обладать высочайшим умением жить, но еще большим умением — умереть! Героизм души — жить, героизм тела — умереть…
Смерть— Мне совестно, что я жива. Мои друзья о жизни рассказывают, как моряки о далеких странах. Из этого заключаю, что не живу. Когда болят зубы, хочется одного: чтобы это кончилось. Полное безразличие ко всему и вся. Отсюда до смерти — крошечный шаг. То же безразличие у меня — всеобщее, окончательное. Значит всё это: солнце, работа, близкие — само по себе ничего не стоит и зависит только от меня. Меня жизнь — добила. Раньше умела писать стихи, теперь разучилась. Затравленный зверь. Исхода не вижу.
— За 10 минут до смерти Вы написали: «Не похороните живой! Проверьте хорошенько!» Последние слова, которые доверили бумаге. А за три дня до смерти сказали: «Человеку, в общем-то, нужно не так уж много, всего клочок…»
— …Всего клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться. Только клочок твердой земли, за который можно зацепиться…
— Не зацепились!.. Знаете, я долго не мог понять одной Вашей фразы: «Дать можно только богатому и помочь только сильному»… Странные слова. Я раньше думал, что это неизжитое до конца ницшеанство: слабые и неудачники должны погибнуть — в этом, дескать, любовь к человечеству. Но теперь понял: слова эти — о беззащитности, о неизбывной беззащитности гения. Мы не дали, мы — не помогли. А значит — виноваты, что Вы не удержались, не — зацепились…
— Не горюйте. Я ведь знаю, как меня будут любить через 100 лет! Я та песня, из которой слова не выкинешь, та пряжа, из которой нитки не вытянешь. Будет час — сама расплету, расплещу, распущу. Это будет час рождения в другую жизнь…
— И — последний вопрос. А если всё начать сначала, что Вы, Марина Ивановна, пожелали бы себе? Себе, стране?
— Себе — отдельной комнаты и письменного стола. России — того, что она хочет…
Текст:
Вячеслав Недошивин (кандидат философских наук, ведущий рубрики «Литературный салон Родины»)
Последние новости
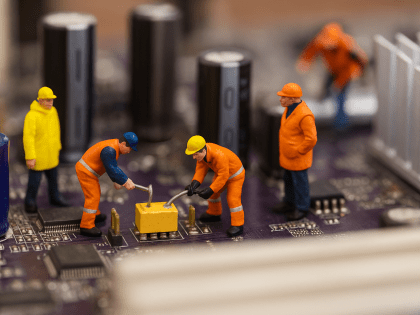
Как ремонт сервоприводов влияет на производительность оборудования?
Что происходит с линией после вмешательства в "сердце" автоматики и как это влияет на итоговую эффективность

В Ростове-на-Дону стартовал форум «Интеграция 2025»
pxhere.com Юрий Слюсарь дал старт форуму «Интеграция». Мероприятие проходит в Ростове-на-Дону второй раз.

Как в Ростове “накормить тело”
Впервые необычное языковое сочетание "накормить глаза" мы услышали несколько лет назад от экскурсовода в Пятигорске.

Потребительский кредит без боли: как не стать жертвой долговой ямы
Как взять кредит с умом и не пожалеть об этом спустя пару месяцев